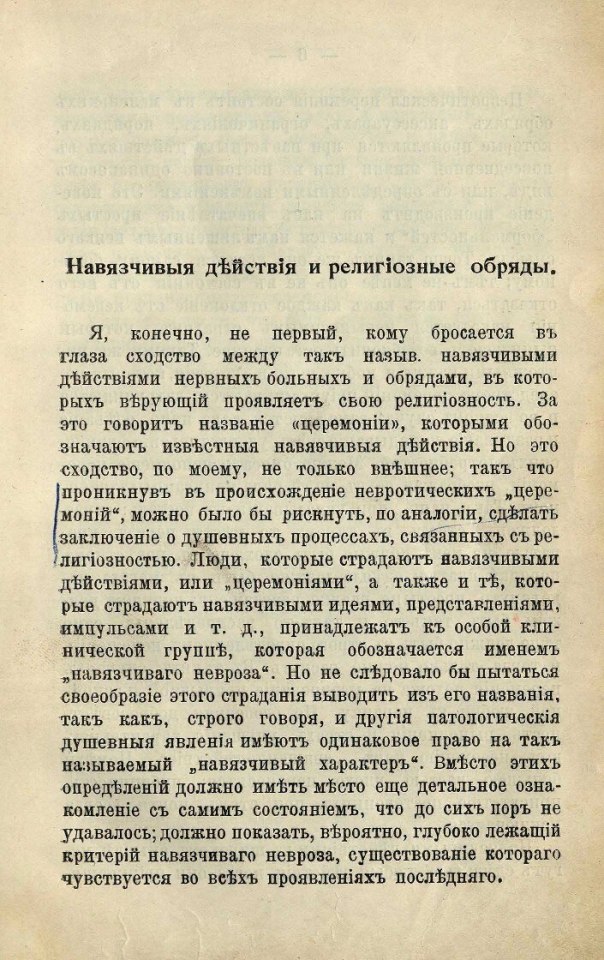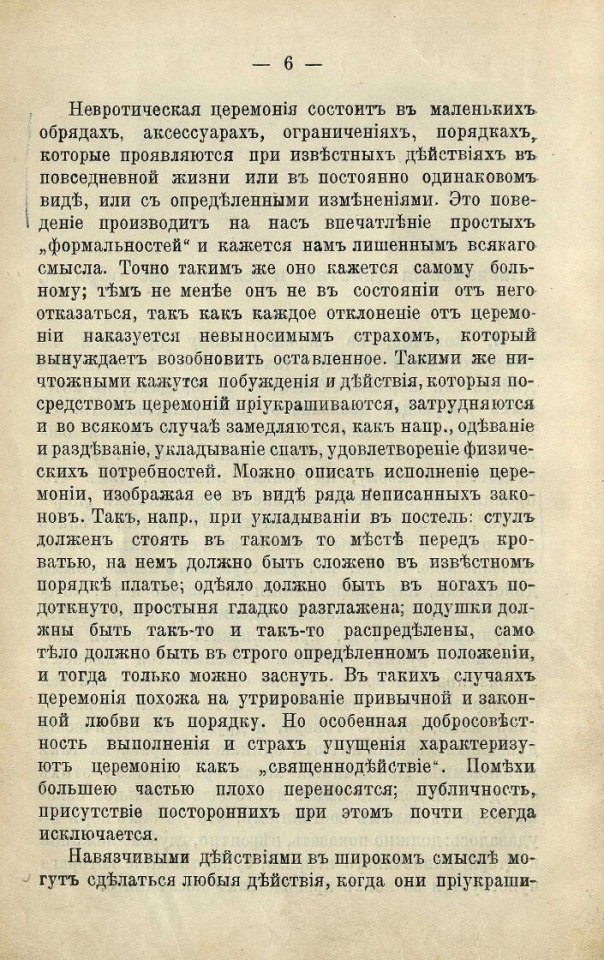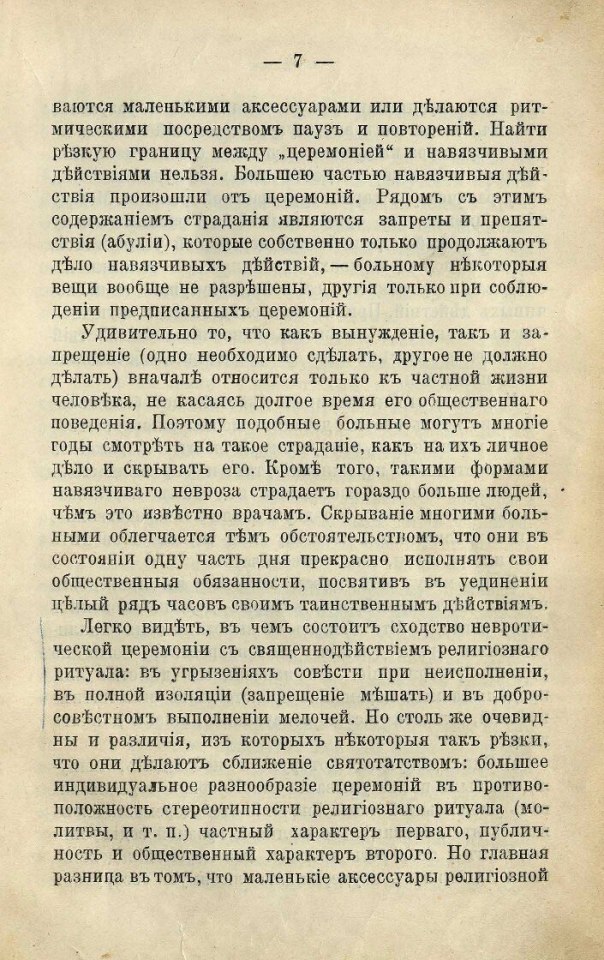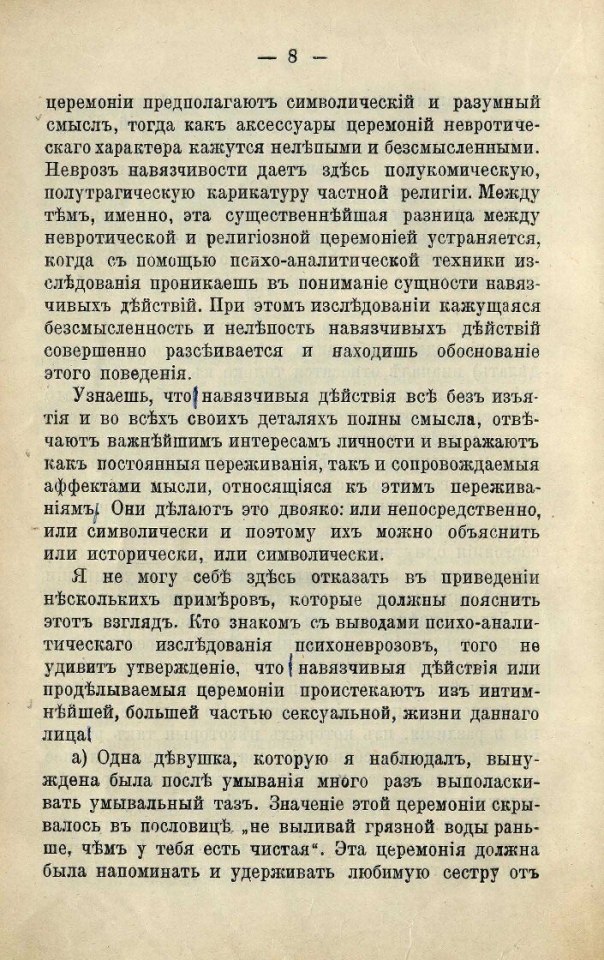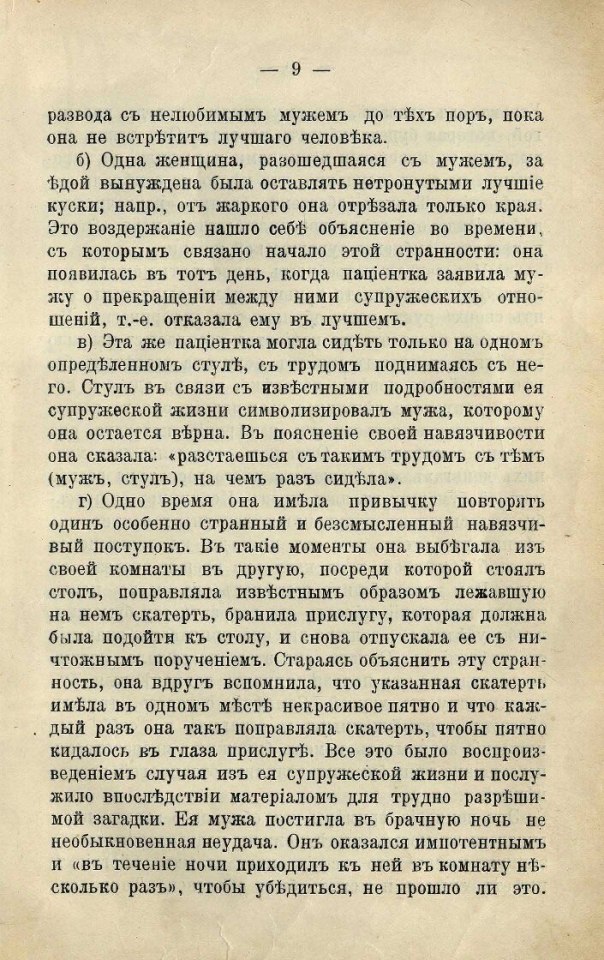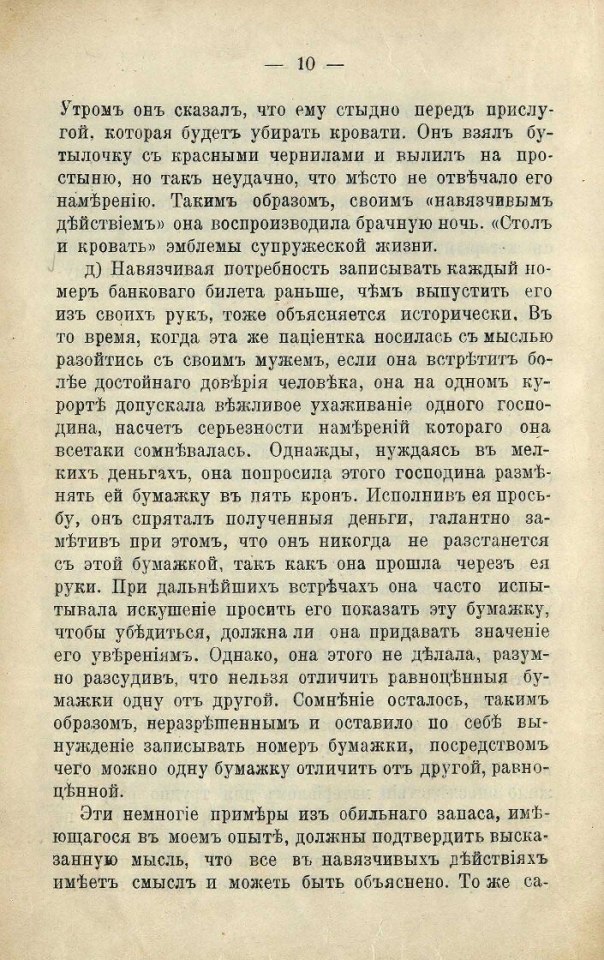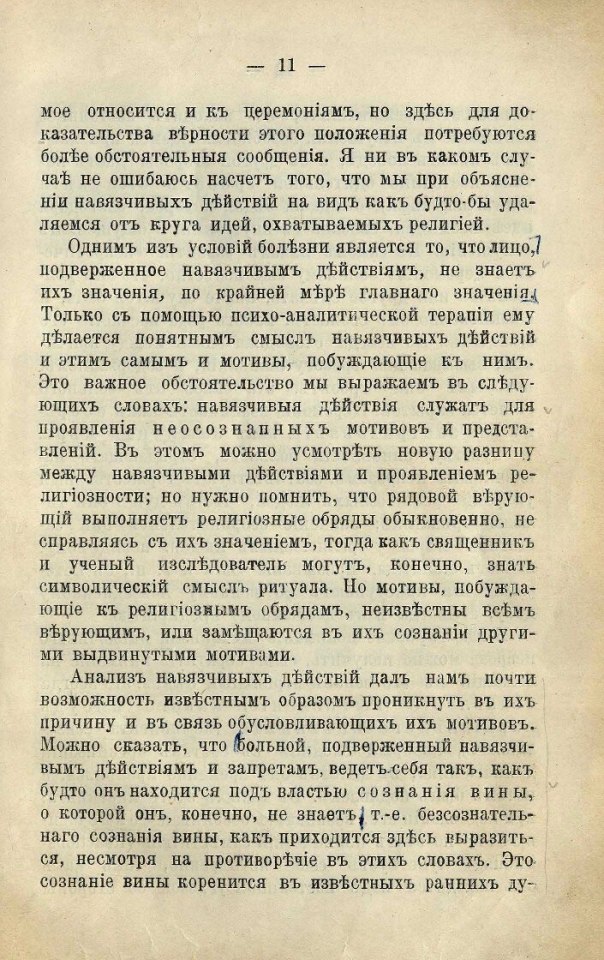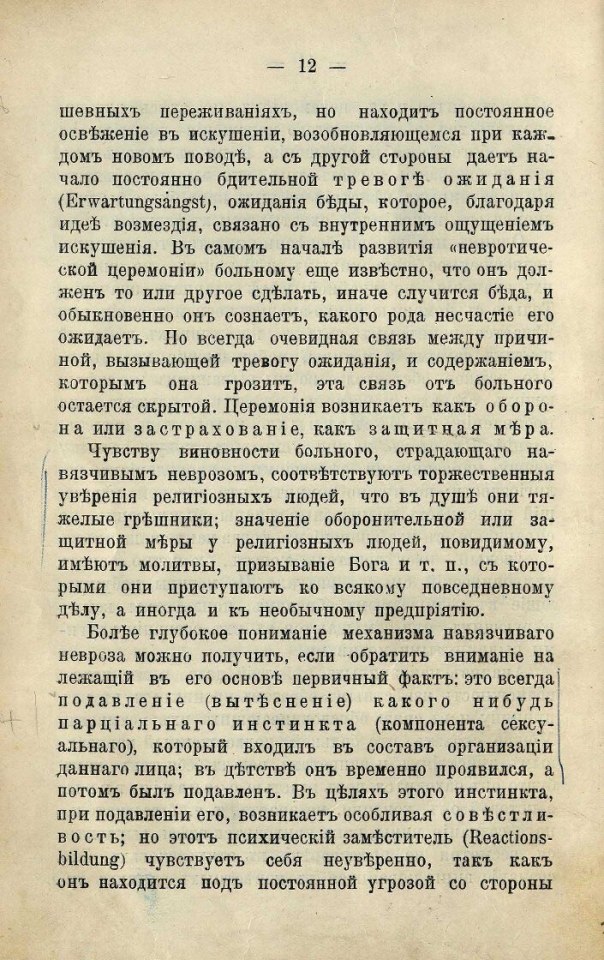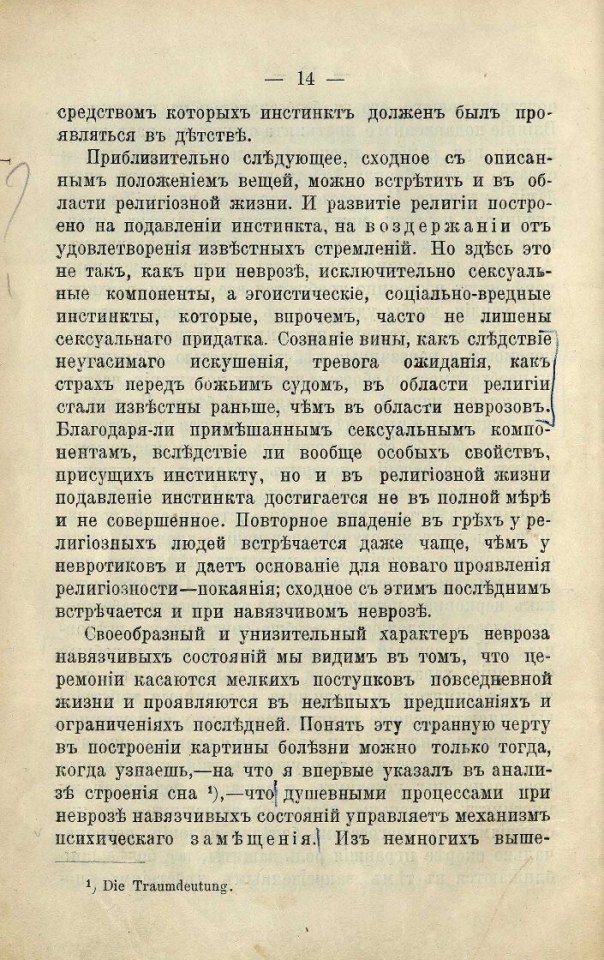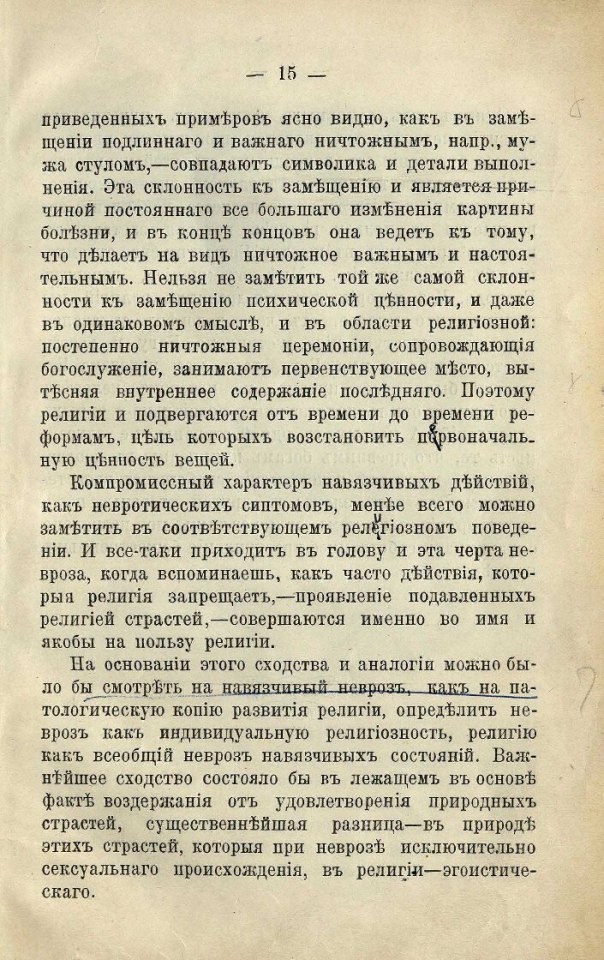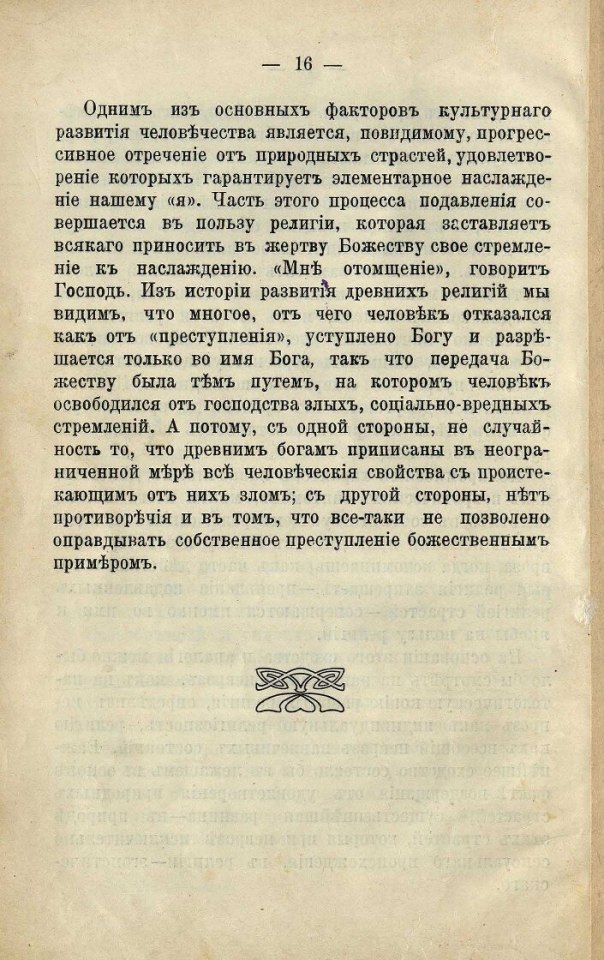S.
Навязчивыя дѣйствія и религіозные обряды.
Я, конечно, не первый, которому бросается въ
глаза сходство между такъ назыв. навязчивыми
дѣйствіями нервныхъ больныхъ и обрядами, въ кото-
рыхъ вѣрующій проявляетъ свою религіозность. За
это говоритъ названіе «церемоніи», которымъ обо-
значаютъ извѣстныя навязчивыя дѣйствія. Но это
сходство, по моему, не только внѣшнее; такъ что,
проникнувъ въ происхожденіе неврастеническихъ „цере-
моній“, можно было бы рискнуть, по аналогіи, сдѣлать
заключеніе о душевныхъ процессахъ, связанныхъ съ ре-
лигіозностью. Люди, которые страдаютъ навязчивыми
дѣйствіями, или „церемоніями“, а также и тѣ, кото-
рые страдаютъ навязчивыми идеями, представленія-
ми, импульсами и т. д., принадлежать къ особой кли-
нической группѣ, которая обозначается именемъ
„навязчиваго невроза“. Но не слѣдовало бы пытаться
своеобразіе этого страданія выводить изъ его названія,
такъ какъ, строго говоря, и другія патологическія
душевныя явленія имѣютъ одинаковое право на такъ
называемый „навязчивый характеръ“. Вмѣсто этихъ
опредѣленій должно имѣть мѣсто еще детальное озна-
комленіе съ самимъ состояніемъ, что до сихъ поръ не
удавалось; должно показать, вѣроятно, глубоко лежащій
критерій навязчиваго невроза, существованіе котораго
чувствуется во всѣхъ проявленіяхъ послѣдняго.S.
– 6 –
Невротическая церемонія состоитъ въ маленькихъ
обрядахъ, аксессуарахъ, ограниченіяхъ, порядкахъ,
которые проявляются при извѣстныхъ дѣйствіяхъ въ
повседневной жизни или въ постоянно одинаковомъ
видѣ, или съ опредѣленными измѣненіями. Это пове-
деніе производитъ на насъ впечатлѣніе простыхъ
„формальностей“ и кажется намъ лишеннымъ всякаго
смысла. Точно такимъ же оно кажется самому боль-
ному; тѣмъ не менѣе онъ не въ состояніи отъ него
отказаться, такъ какъ каждое отклоненіе отъ церемо-
ніи наказуется невыносимымъ страхомъ, который
вынуждаетъ возобновить оставленное. Такими же ни-
чтожными кажутся побужденія и дѣйствія, которыя по-
средствомъ церемоній пріукрашиваются, затрудняются
и во всякомъ случаѣ замедляются, какъ напр., одѣваніе
и раздѣваніе, укладываніе спать, удовлетвореніе физиче-
скихъ потребностей. Можно описать исполненіе церемо-
ніи, изображая ее въ видѣ ряда неписанныхъ зако-
новъ. Такъ, напр., при укладываніи въ постель: стулъ
долженъ стоять въ такомъ то мѣстѣ передъ кро-
ватью, на немъ должно быть сложено въ извѣстномъ
порядкѣ платье; одѣяло должно быть въ ногахъ по-
доткнуто, простыня гладко разглажена; подушки дол-
жны быть такъ-то и такъ-то распредѣлены, само
тѣло должно быть въ строго опредѣленномъ положеніи,
и тогда только можно заснуть. Въ такихъ случаяхъ
церемонія похожа на утрированіе привычной и закон-
ной любви къ порядку. Но особенная добросовѣст-
ность выполненія и страхъ упущенія характери-
зуютъ церемонію какъ „священнодѣйствіе“. Помѣхи
большею частью плохо переносятся; публичность,
присутствіе постороннихъ при этомъ почти всегда
исключается.Навязчивымъ дѣйствіямъ въ широкомъ смыслѣ мо-
гутъ сдѣлаться любыя дѣйствія, когда они пріукраши-
S.
– 7 –
ваются маленькими аксессуарами или дѣлаются рит-
мическими посредствомъ паузъ и повтореній. Найти
рѣзкую границу между „церемоніей“ и навязчивыми
дѣйствіями нельзя. Большею частью навязчивыя дѣй-
ствія произошли отъ церемоній. Рядомъ съ этимъ
содержаніемъ страданія являются з а п р е т ы и п р е п я т-
с т в і я (абуліи), которые собственно только продолжаютъ
дѣло навязчивыхъ дѣйствій, — больному нѣкоторыя
вещи вообще не разрѣшены, другія только при соблю-
деніи предписанныхъ церемоній.Удивительно то, что какъ в ы н у ж д е н і е, такъ и з а-
п р е щ е н і е (одно необходимо сдѣлать, другое не должно
дѣлать) вначалѣ относится только къ частной жизни
человѣка, не касаясь долгое время его общественнаго
поведенія. Поэтому подобные больные могутъ многіе
годы смотрѣть на такое страданіе, какъ на ихъ личное
дѣло и скрывать его. Кромѣ того, такими формами
навязчиваго невроза страдаетъ гораздо больше людей,
чѣмъ это извѣстно врачамъ. Скрываніе многими боль-
ными облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что они въ
состояніи одну часть дня прекрасно исполнять свои
общественныя обязанности, посвятивъ въ уединеніи
цѣлый рядъ часовъ своимъ т а и н с т в е н н ы м ъ дѣйствіямъ.Легко видѣть, въ чемъ состоитъ сходство невроти-
ческой церемоніи съ священнодѣйствіемъ религіознаго
ритуала: въ у г р ы з е н і я х ъ совѣсти при неисполненіи,
въ п о л н о й и з о л я ц і и (запрещеніе мѣшать) и въ д о б р о-
с о в ѣ с т н о м ъ выполненіи мелочей. Но столь же очевид-
ны и р а з л и ч і я, изъ которыхъ нѣкоторыя такъ рѣзки,
что они дѣлаютъ сближеніе с т а т о т о ч н ы м ъ: б о л ѣ е
индивидуальное р а з н о о б р а з і е церемоній въ противо-
положность с т е р е о т и п н о с т и религіознаго ритуала (мо-
литвы, и т. п.), частный х а р а к т е р ъ перваго, п у б л и ч-
н о с т ь и о б щ е с т в е н н ы й х а р а к т е р ъ второго. Но главная
разница въ томъ, что маленькіе аксессуары религіознойS.
– 8 –
церемоніи предполагаютъ символическій и разумный
смыслъ, тогда какъ аксессуары церемоній невротиче-
скаго характера кажутся нелѣпыми и безсмысленными.
Неврозъ навязчивости даетъ здѣсь полукомическую,
полутрагическую каррикатуру частной религіи. Между
тѣмъ, именно, эта существеннѣйшая разница между
невротической и религіозной церемоніей устраняется,
когда съ помощью психо-аналитической техники из-
слѣдованія проникаешь въ пониманіе сущности навяз-
чивыхъ дѣйствій. При этомъ изслѣдованіи кажущаяся
безсмысленность и нелѣпость навязчивыхъ дѣйствій
совершенно разсѣивается и находитъ обоснованіе
этого поведенія.Узнаешь, что навязчивыя дѣйствія всѣ безъ изъя-
тія и во всѣхъ своихъ деталяхъ полны смысла, отвѣ-
чаютъ важнѣйшимъ интересамъ личности и выражаютъ
какъ постоянныя переживанія, такъ и сопровождаемыя
аффектами мысли, относящіяся къ этимъ пережива-
ніямъ. Они дѣлаютъ это двояко: или непосредственно,
или символически и поэтому ихъ можно объяснить
или исторически, или символически.Я не могу себѣ здѣсь отказать въ приведеніи
нѣсколькихъ примѣровъ, которые должны пояснить
этотъ взглядъ. Кто знакомъ съ выводами психо-анали-
тическаго изслѣдованія психоневрозовъ, того не
удивитъ утвержденіе, что навязчивыя дѣйствія или
продѣлываемыя церемоніи проистекаютъ изъ интим-
нѣйшей, большей частью сексуальной, жизни даннаго
лица:
а) Одна дѣвушка, которую я наблюдалъ, выну-
ждена была послѣ умыванія много разъ выполаски-
вать умывальный тазъ. Значеніе этой церемоніи скры-
валось въ пословицѣ: „не выливай грязной воды рань-
ше, чѣмъ у тебя есть чистая“. Эта церемонія должна
была напоминать и удерживать любимую сестру отъS.
– 9 –
развода съ нелюбимымъ мужемъ до тѣхъ поръ, пока
она не встрѣтитъ лучшаго человѣка.
б) Одна женщина, разошедшаяся съ мужемъ, за
ѣдой вынуждена была оставлять нетронутыми лучшіе
куски; напр., отъ жаркого она отрѣзала только края.
Это воздержаніе нашло себѣ объясненіе во времени,
съ которымъ связано начало этой странности: она
появилась въ тотъ день, когда паціентка заявила му-
жу о прекращеніи между ними супружескихъ отно-
шеній, т.-е. отказала ему въ лучшемъ.
в) Эта же паціентка могла сидѣть только на одномъ
опредѣленномъ стулѣ, съ трудомъ поднимаясь съ не-
го. Стулъ въ связи съ извѣстными подробностями ея
супружеской жизни символизировалъ мужа, которому
она остается вѣрна. Въ поясненіе своей навязчивости
она сказала: «разстаешься съ такимъ трудомъ съ тѣмъ
(мужъ, стулъ), на чемъ разъ с и д ѣ л а».
г) Одно время она имѣла привычку повторять
одинъ особенно странный и безсмысленный навязчи-
вый поступокъ. Въ такіе моменты она выбѣгала изъ
своей комнаты въ другую, посреди которой стоялъ
столъ, поправляла извѣстнымъ образомъ лежавшую
на немъ скатерть, бранила прислугу, которая должна
была подойти къ столу, и снова отпускала ее съ ни-
чтожнымъ порученіемъ. Стараясь объяснить эту стран-
ность, она вдругъ вспомнила, что указанная скатерть
имѣла въ одномъ мѣстѣ некрасивое пятно и что каж-
дый разъ она такъ поправляла скатерть, чтобы пятно
кидалось въ глазъ прислугѣ. Все это было воспроиз-
веденіемъ случая изъ ея супружеской жизни и послу-
жило впослѣдствіи матеріаломъ для трудно разрѣши-
мой загадки. Ея мужъ постигла въ брачную ночь не
необыкновенная неудача. Онъ оказался импотентнымъ
и «въ теченіе ночи приходилъ къ ней въ комнату нѣ-
сколько разъ», чтобы убѣдиться, не прошло ли это.S.
– 10 –
Утромъ онъ сказалъ, что ему стыдно передъ прислу-
гой, которая будетъ убирать кровати. Онъ взялъ бу-
тылочку съ красными чернилами и вылилъ на про-
стыню, но такъ неудачно, что мѣсто не отвѣчало его
намѣренію. Такимъ образомъ, своимъ «навязчивымъ
дѣйствіемъ» она воспроизводила брачную ночь. «Столъ
и кровать» эмблемы супружеской жизни.
д) Навязчивая потребность записывать каждый но-
меръ банковаго билета раньше, чѣмъ выпустить его
изъ своихъ рукъ, тоже объясняется исторически. Въ
то время, когда эта же паціентка носила съ мыслью
развѣтись съ своимъ мужемъ, если она встрѣтитъ бо-
лѣе достойнаго довѣрія человѣка, она на одномъ ку-
рортѣ допускала нѣжное ухаживаніе одного госпо-
дина, насчетъ серьезности намѣреній котораго она
всетаки сомнѣвалась. Однажды, нуждаясь въ мел-
кихъ деньгахъ, она попросила этого господина размѣ-
нять ей бумажку въ пять кронъ. Исполнивъ ея прось-
бу, онъ спряталъ полученныя деньги, галантно за-
мѣтивъ при этомъ, что онъ никогда не разстанется
съ этой бумажкой, такъ какъ она прошла черезъ ея
руки. При дальнѣйшихъ встрѣчахъ она часто испы-
тывала искушеніе просить его показать эту бумажку,
чтобы убѣдиться, должна ли она придавать значеніе
его увѣреніямъ. Однако, она этого не дѣлала, разум-
но разсудивъ, что нельзя отличить равноцѣнныя бу-
мажки одну отъ другой. Сомнѣніе осталось, такимъ
образомъ, неразрѣшеннымъ и оставило по себѣ вы-
нужденіе записывать номеръ бумажки, посредствомъ
чего можно одну бумажку отличить отъ другой, равно-
цѣнной.Эти немногіе примѣры изъ обильнаго запаса, имѣ-
ющагося въ моемъ опытѣ, должны подтвердить выска-
занную мысль, что **все** въ навязчивыхъ дѣйствіяхъ
имѣетъ смыслъ и можетъ быть объяснено. То же са-S.
– 11 –
мое относится и къ церемоніямъ, но здѣсь для до-
казательства вѣрности этого положенія потребуются
болѣе обстоятельныя сообщенія. Я ни въ какомъ слу-
чаѣ не ошибаюсь насчетъ того, что мы при объясне-
ніи навязчивыхъ дѣйствій на видъ какъ будто-бы уда-
ляемся отъ круга идей, охватываемыхъ религіей.Однимъ изъ условій болѣзни является то, что лицо,
подверженное навязчивымъ дѣйствіямъ, не знаетъ
ихъ значенія, по крайней мѣрѣ главнаго значенія.
Только съ помощью психо-аналитической терапіи ему
дѣлается понятнымъ смыслъ навязчивыхъ дѣйствій
и этимъ самымъ и мотивы, побуждающіе къ нимъ.
Это важное обстоятельство мы выражаемъ въ слѣду-
ющихъ словахъ: навязчивыя дѣйствія служатъ для
проявленія н е о с о з н а н н ы х ъ м о т и в о в ъ и п р е д с т а-
в л е н і й. Въ этомъ можно усмотрѣть новую разницу
между навязчивыми дѣйствіями и проявленіемъ ре-
лигіозности; но нужно помнить, что рядовой вѣрую-
щій выполняетъ религіозные обряды обыкновенно не
справляясь съ ихъ значеніемъ, тогда какъ священникъ
и ученый изслѣдователь могутъ, конечно, знать
символическій смыслъ ритуала. Но мотивы, побужда-
ющіе къ религіознымъ обрядамъ, неизвѣстны всѣмъ
вѣрующимъ, или замѣщаются въ ихъ сознаніи други-
ми выдвинутыми мотивами.Анализъ навязчивыхъ дѣйствій далъ намъ почти
возможность извѣстнымъ образомъ проникнуть въ ихъ
причину и въ связь обусловливающихъ ихъ мотивовъ.
Можно сказать, что больной, подверженный навязчи-
вымъ дѣйствіямъ и запретамъ, ведетъ себя такъ, какъ
будто онъ находится подъ властью с о з н а н і я в и н ы,
о которой онъ, конечно, не знаетъ, т.-е. б е з с о з н а т е л ь-
н а г о с о з н а н і я в и н ы, какъ приходится здѣсь выразить-
ся, несмотря на противорѣчіе въ этихъ словахъ. Это
сознаніе вины коренится въ извѣстныхъ раннихъ ду-S.
– 12 –
шевныхъ переживаніяхъ, но находитъ постоянное
освѣженіе въ искушеніи, возобновляющемся при каж-
домъ новомъ поводѣ, а съ другой стороны даетъ на-
чало постоянно бдительной т р е в о г ѣ о ж и д а н і я
(Erwartungsangst), ожиданія бѣды, которое, благодаря
игрѣ воображенія, связано съ внутреннимъ ощущеніемъ
искушенія. Въ самомъ началѣ развитія «невротиче-
ской церемоніи» больному еще извѣстно, что онъ дол-
женъ то или другое сдѣлать, иначе случится бѣда, и
обыкновенно онъ сознаетъ, какого рода несчастіе его
ожидаетъ. Но всегда очевидная связь между причи-
ной, вызывающей тревогу ожиданія, и содержаніемъ,
которымъ она грозитъ, эта связь отъ больного
остается скрытой. Церемонія возникаетъ какъ о б о р о-
н а и л и з а с т р а х о в а н і е, какъ з а щ и т н а я м ѣ р а.Чувству виновности больного, страдающаго на-
вязчивымъ неврозомъ, соотвѣтствуетъ торжественныя
увѣренія религіозныхъ людей, что въ душѣ они тя-
желые грѣшники; значеніе оборонительной или за-
щитной мѣры у религіозныхъ людей, повидимому,
имѣютъ молитвы, призываніе Бога и т. п., съ кото-
рыми они приступаютъ ко всякому повседневному
дѣлу, а иногда и къ необычному предпріятію.Болѣе глубокое пониманіе механизма навязчиваго
невроза можно получить, если обратить вниманіе на
лежащій въ его основѣ первичный фактъ: это всегда
п о д а в л е н і е (в ы т ѣ с н е н і е) какого нибудь
п а р ц і а л ь н а г о и н с т и н к т а (компонента сексу-
альнаго), который входилъ въ составъ организаціи
даннаго лица; въ дѣтствѣ онъ временно проявился, а
потомъ былъ подавленъ. Въ цѣляхъ этого инстинкта,
при подавленіи его, возникаетъ особливая с о в ѣ с т л и-
в о с т ь; но этотъ психическій замѣститель (Reactions-
bildung) чувствуетъ себя неувѣренно, такъ какъ
онъ находится подъ постоянной угрозой со стороныS.
– 13 –
подстерегающаго его въ безсознательномъ инстинктѣ.
Вліяніе подавленнаго инстинкта ощущается какъ
искушеніе; при самомъ процессѣ подавленія рождается
с т р а х ъ, который овладѣваетъ въ видѣ т р е в о г и о ж и-
д а н і я будущаго. Процессъ подавленія, ведущій къ на-
вязчивому неврозу, можно назвать не совсѣмъ удав-
шимся, грозящимъ оказаться все болѣе неудачнымъ.
А потому его можно приравнять къ неразрѣшенному
конфликту; постоянно требуются все новыя психиче-
скія усилія, чтобы удержать въ равновѣсіи постоян-
ный напоръ со стороны инстинкта. Такимъ образомъ,
церемоніи и навязчивыя дѣйствія частью объясняют-
ся необходимостью обороны противъ искушенія, частью
являются защитой отъ ожидаемой бѣды. Но вскорѣ
эти защитительныя мѣры оказываются недостаточны-
ми въ борьбѣ съ искушеніемъ и тогда выступаютъ
з а п р е т ы, назначеніе которыхъ отдалить искушеніе.
Запреты, какъ это видно, также замѣщаютъ собой на-
вязчивыя дѣйствія, какъ ф о б і и - и с т е р и ч е с к і й п р и п а-
д о к ъ. Въ другомъ случаѣ «церемоніи» являютъ собой
совокупность условій, при которыхъ нѣкоторое еще
не абсолютно запрещенное, р а з р ѣ ш е н о. Совсѣмъ такъ,
какъ церковная церемонія брака р а з р ѣ ш а е т ъ набожно-
му половое наслажденіе, вообще считающееся грѣхов-
нымъ. Навязчивый неврозъ, какъ и всѣ подобныя
страданія, характеризуется еще тѣмъ, что его про-
явленія (симптомы и среди нихъ навязчивыя дѣйствія)
выполняютъ условіе к о м п р о м и с с а между борющимися
душевными силами. Эти проявленія всегда приносятъ
съ собой немного изъ того удовольствія, которое они
предназначены устранить, и служатъ подавленному
инстинкту не меньше, чѣмъ подавляющимъ его ин-
станціямъ. Съ прогрессомъ болѣзни явленія, первона-
чально скорѣе игравшія роль защиты, все болѣе при-
ближаются къ т ѣ м ъ з а п р е щ е н н ы м ъ д ѣ й с т в і я м ъ, по-S.
– 14 –
средствомъ которыхъ инстинктъ долженъ былъ про-
являться въ дѣтствѣ.Приблизительно слѣдующее, сходное съ описан-
нымъ положеніемъ вещей, можно встрѣтить и въ об-
ласти религіозной жизни. И развитіе религіи постро-
ено на подавленіи инстинкта, на воздержаніи и отъ
удовлетворенія извѣстныхъ стремленій. Но здѣсь это
не такъ, какъ при неврозѣ, исключительно сексуаль-
ные компоненты, а эгоистическіе, соціально-вредные
инстинкты, которые, впрочемъ, часто не лишены
сексуальнаго придатка. Сознаніе вины, какъ слѣдствіе
н е у г а с и м а г о и с к у ш е н і я, т р е в о г а о ж и д а н і я, какъ
страхъ передъ божьимъ судомъ, въ области религіи
стали извѣстны раньше, чѣмъ въ области неврозовъ.
Благодаря-ли примѣшаннымъ сексуальнымъ компо-
нентамъ, вслѣдствіе ли вообще осбыхъ свойствъ,
присущихъ инстинкту, но и въ религіозной жизни
подавленіе инстинкта достигается не въ полной мѣрѣ
и не совершенное. Повторное впаденіе въ грѣхъ у ре-
лигіозныхъ людей встрѣчается даже чаще, чѣмъ у
невротиковъ и даетъ основаніе для новаго проявленія
религіозности—п о к а я н і я; сходное съ этимъ послѣднимъ
встрѣчается и при навязчивомъ неврозѣ.Своеобразный и унизительный характеръ невроза
навязчивыхъ состояній мы видимъ въ томъ, что
церемоніи касаются мелкихъ поступковъ повседневной
жизни и проявляются въ нелѣпыхъ предписаніяхъ и
ограниченіяхъ послѣдней. Понять эту странную черту
въ построеніи картины болѣзни можно только тогда,
когда узнаешь,—на что я впервые указалъ въ анали-
зѣ строенія сна 1),—что душевными процессами при
неврозѣ навязчивыхъ состояній управляетъ механизмъ
п с и х и ч е с к а г о з а м ѣ щ е н і я. Изъ немногихъ выше-
1) Die Traumdeutung.
S.
– 15 –
приведенныхъ примѣровъ ясно видно, какъ въ замѣ-
щеніи подлиннаго и важнаго ничтожнымъ, напр., му-
жа стуломъ,—совпадаютъ символика и детали выпол-
ненія. Эта склонность къ замѣщенію и является при-
чиной постояннаго все большаго измѣненія картины
болѣзни, и въ концѣ концовъ она ведетъ къ тому,
что дѣлаетъ на видъ ничтожное важнымъ и настоя-
тельнымъ. Нельзя не замѣтить той же самой склон-
ности къ замѣщенію психической цѣнности, и даже
въ одинаковомъ смыслѣ, и въ области религіозной:
постепенно ничтожныя церемоніи, сопровождающія
богослуженіе, занимаютъ первенствующее мѣсто, вы-
тѣсняя внутреннее содержаніе послѣдняго. Поэтому
религіи и подвергаются отъ времени до времени ре-
формамъ, цѣль которыхъ возстановить первоначаль-
ную цѣнность вещей.Компромиссный характеръ навязчивыхъ дѣйствій,
какъ невротическихъ симптомтовъ, менѣе всего можно
замѣтить въ соотвѣтствующемъ религіозномъ поведе-
ніи. И все-таки приходитъ въ голову и эта черта не-
вроза, когда вспоминаешь, какъ часто дѣйствія, кото-
рыя религія запрещаетъ,—проявленіе подавленныхъ
религіей страстей,—совершаются именно во имя и
якобы на пользу религіи.На основаніи этого сходства и аналогіи можно бы-
ло бы смотрѣть на навязчивый неврозъ, какъ на па-
тологическую копію развитія религіи, опредѣлить не-
врозъ какъ индивидуальную религіозность, религію
какъ всеобщій неврозъ навязчивыхъ состояній. Важ-
нѣйшее сходство состояло бы въ лежащемъ въ основѣ
фактѣ воздержанія отъ удовлетворенія природныхъ
страстей, существеннѣйшая разница—въ природѣ
этихъ страстей, которыя при неврозѣ исключительно
сексуальнаго происхожденія, въ религіи—эгоистиче-
скаго.S.
– 16 –
Однимъ изъ основныхъ факторовъ культурнаго
развитія человѣчества является, повидимому, прогрес-
сивное отреченіе отъ природныхъ страстей, удовлетво-
реніе которыхъ гарантируетъ элементарное наслажде-
ніе нашему «я». Часть этого процесса подавленія со-
вершается въ пользу религіи, которая заставляетъ
всякаго приносить въ жертву Божеству свое стремле-
ніе къ наслажденію. «Мнѣ отомщеніе», говоритъ
Господь. Изъ исторіи развитія древнихъ религій мы
видимъ, что многое, отъ чего человѣкъ отказался
какъ отъ «преступленія», уступило Богу и разрѣ-
шается только во имя Бога, такъ что передача Бо-
жеству была тѣмъ путемъ, на которомъ человѣкъ
освободился отъ господства злыхъ, соціально-вредныхъ
стремленій. А потому, съ одной стороны, не случай-
ность то, что древнимъ богамъ приписаны въ неогра-
ниченной мѣрѣ всѣ человѣческія свойства съ происте-
кающимъ отъ нихъ зломъ; съ другой стороны, нѣтъ
противорѣчія и въ томъ, что все-таки не позволено
оправдывать собственное преступленіе божественнымъ
примѣромъ.
freud-1912-studien-ru
5
–16